Веркор - Избранное [Молчание моря. Люди или животные? Сильва. Плот "Медузы"]
— И чем кончались эти приступы ярости?
— Вполне заслуженной поркой. Причем в этом случае я принимал ее безропотно и даже с некоторым, пожалуй, удовлетворением.
— Вот тебе раз! Почему?
— Потому что мне удавалось восстановить справедливость! Ведь эту-то норку я действительно заслужил.
— По крайней мере так вам это представляется теперь…
— Вовсе нет. Родители не так уж далеки от истины, когда, выпоров капризного мальчугана, приговаривают: „Теперь у тебя хотя бы будет причина для слез“. Он ведь для того и плакал, чтобы его наконец выдрали за дело. Только таким способом в нем и может изгладиться обида за какое-нибудь несправедливое наказание, которую он не вполне осознает, но горько чувствует. На эти вещи у меня очень хорошая память. Да что там, мои первые воспоминания такого рода восходят к еще более давним временам, к еще более раннему возрасту.
— Когда вам не было и трех?
— Ровно полтора года. Я опрокинул какую-то кастрюлю, обжег руку, истошно кричал — но ничего этого я не помню. Зато я вижу себя у открытого буфета, няня протягивает мне пирожное. Я был сластена, а чтобы съесть пирожное, нужно было перестать кричать. И вот это-то, это единственное, я помню — свое унижение. Само собой, я сдерживаю слезы, но, жуя пирожное, думаю не такими словами, конечно, но все-таки думаю с досадой, с обидой: „Она заткнула мне рот пирожным“.
— Черт возьми! Полтора года — и уже такая гордыня!
— Гордыня? Навряд ли. По-моему, тут было другое, я не мог перенести самовластия взрослых, того, что они по своей прихоти вертят слабым, беззащитным существом: захотят — заставят плакать, захотят — заткнут рот. Уже в том возрасте мне была невыносима несправедливость, навязанная силой.
— Вы не такое уже редкое исключение. Всем детям в большей или меньшей степени присуще это чувство.
— Не уверен, что именно оно. По сути дела, я ополчался против плохо устроенного мира, в котором взрослые знают все, а дети ничего, не знают даже, что можно, а что нельзя. Чувство страха, вернее, уверенности, что мне придется быть изгоем, окрасило все мое детство. Вы меня понимаете?
— Не совсем. Изгоем — где? В дурно устроенном обществе?
— В мире, где тот, кто знает все — будь это отец, мать или сам Господь Бог, — не желает уберечь ребенка от промахов, порожденных неведением, а потом его же награждает тумаками. Разве это справедливо? Разве допустимо? Вот каково было мое чувство. Чувство отторгнутости, одиночества. Ощущение, что ребенок одинок. Что ему не на кого рассчитывать. А вот вам еще одно воспоминание. Я вас не утомил?
— Нет, нет, я слушаю.
— Я был тогда чуть постарше — лет четырех или пяти. Меня учили читать Священную историю. Вначале кара, назначенная Адаму, вызвала у меня просто отвращение: „В поте лица твоего будешь есть хлеб“. „В поте лица“ — какая гадость! Но когда мне объяснили, что это значит, я и вовсе приуныл: хлеб надо было заработать. Долгое время я полагал, что нет ничего проще — пошел в банк и взял деньги. Но тогда почему же каждый раз, когда приближались последние дни месяца, отец ворчал: „Сколько веревку ни вить, а концу быть!“ Мать проливала слезы. Этот „конец“ не выходил у меня из головы. Значит, заработать себе на хлеб не такое простое дело? А вдруг я этому не научусь? Вдруг я стану таким, как нищие попрошайки в метро? В метро было много нищих, и это смущало мой покой. Мысль о них преследовала меня каждое утро, когда меня водили на прогулку мимо булочной против Бельфорского льва. Эта булочная с открытой витриной, выложенной свежими хлебцами, бриошами и рогаликами, и поныне существует на углу улицы Дагерр. Здесь всегда был народ — люди, которые умели зарабатывать себе на хлеб. А чуть поодаль на складном стуле сидел нищий и, подражая флейте, носом выводил какие-то невнятные гнусавые звуки, от которых мне становилось не по себе. Однажды я видел, как ему бросили какую-то мелочь, он вошел в булочную и купил маленький хлебец. Я тут же сделал подсчет. В ту пору такой хлебец стоил два су. Шоколадка тоже. Стало быть, на худой конец, если я стану нищим, главное — каждый день получать по две монетки в два су, тогда я смогу прожить. А если мне иной раз перепадет три монетки, я, может, даже скоплю деньги на старость. Этот подсчет избавил меня от тревоги за будущее. Во всяком случае — отчасти.
— А теперь?
— Простите, не понял?»
Вопрос застиг его врасплох. Я уточнила: «Теперь вы избавились от тревоги за будущее?»
Он засмеялся негромко, с каким-то даже вежливым удивлением. И, не вставая, отвесил мне почтительный поклон.
«— Что ж, и вправду нет. Вы угадали. Я тревожусь о нем ненамного меньше прежнего. Несмотря на известность, несмотря на успех моих книг. В этом отношении я никогда не был спокоен. Меня не покидает мысль о том, что общество жестоко — более жестоко, чем я даже предполагал. Успех — дело неверное. Счастье переменчиво, человека могут забыть, завтра все может измениться, и я потеряю все, что имею.
— А вы не думаете, что мадам Легран подозревает об этих ваших страхах?
— Ей нечего подозревать — они ей хорошо известны. Я ведь ничего от нее не скрываю. Но если вы полагаете, что из-за этого у нее возник какой-то „комплекс неуверенности“, вы глубоко заблуждаетесь. Когда на меня находят эти дурацкие страхи, мы вместе их вышучиваем. Мы оба достаточно сильные люди, чтобы в случае необходимости противостоять несчастьям.
— Во всяком случае, вы так полагаете.
— Я в этом уверен. Причем на основании опыта: ведь я больше года жил впроголодь.
— А я думала, вы росли в довольно состоятельной семье.
— Так и есть. Но когда мне исполнилось восемнадцать лет, отец без лишних слов выгнал меня из дому. Притом без гроша в кармане».
III
Эта подробность или, вернее, это обстоятельство было для меня новостью.
«— Ого! Какое же преступление вы совершили?
— О, это слишком длинная история!
— А вы не можете сформулировать в двух словах, что к этому привело?
— А вы можете сформулировать в двух словах, почему Бодлер написал „Цветы зла“?
— Не понимаю, что здесь общего?
— Меня выгнали из дому, потому что я написал некую книгу. А оттого, что меня выгнали, я ее опубликовал. Оттого, что…
— Какую книгу? Ту, что вызвала скандал?
— Именно.
— Снова месть? „Я созгу твой ковел“?
— И да, и нет. Это гораздо сложнее. Может, я ее для того и написал.
— Чтобы вас выгнали из дому?
— Чтобы высказать то, что накипело в душе.
— Накипело — против кого? Против вашего отца?
— Против всей семьи. Против целого света.
— Это в восемнадцать-то лет?
— Самая пора для отрицания и бунта.
— Вы правы. К этому времени вы уже кончили лицей?
— Я готовился к поступлению в Училище древних рукописей.
— Вот уж никак не вяжется с вами!
— Знаю. Все это не так-то просто объяснить. Понимаете, школьные годы были для меня непрерывным мученичеством.
— Вы не любили школу?
— Да нет, я бы не сказал. Не в этом дело. Я, кажется, все время себе противоречу. Но, понимаете, бывают дети… Вот хотя бы Реми: для него все в жизни было просто, все заранее расписано. В двенадцать лет он уже знал, кем будет, и так и вышло, он стал администратором, крупным чиновником. Правда, после войны он переменил профессию, но по причинам, которые никто… Впрочем, об этом после. Ему были совершенно неведомы мои детские страхи перед таинственным и грозным будущим. С самых юных лет он смотрел на мир с полным доверием, общество взрослых рисовалось ему благотворной, доброжелательной средой, где каждому уготовано подобающее место. Знаете, есть такая игра — наподобие игры „третий лишний“. В круг ставят стулья по числу участников — но одного стула не хватает. Реми никогда не задумывался над тем, что ему может выпасть в жизни доля — или, вернее, недоля — лишнего игрока, эта мысль казалась ему просто невероятной. Мне же наоборот — мне казалось невероятным, если вдруг по счастливой случайности я успею занять свободный стул. Поступая в десятый класс, я уже знал, что меня там встретят тридцать учеников, которые перешли в него из одиннадцатого класса [51], и каждый из них уверенно сидит на своем стуле. Как же я могу рассчитывать найти свободное место? Поэтому уже за несколько месяцев до поступления в школу я начал подготавливать отца: „В школе ведь обязательно — ну просто обязательно — кто-то должен быть самым плохим учеником…“
— Но вы ведь не были самым плохим?
— Нет, я оказался самым лучшим. На свою беду. Я ждал всего чего угодно, только не слов: „Первый ученик Фредерик Легран“. Конечно, я был счастлив, но главное — ошеломлен. Первый — почему? Каким образом? Это казалось мне результатом какого-то таинственного ритуала, правила игры от меня ускользали. Но я по крайней мере успокоился: уф! я прочно сижу на стуле, счастье мне улыбнулось! Однако это длилось недолго. В девятом классе я учился еще хорошо, в восьмом — довольно прилично, а в седьмом начал сдавать. Я был годом моложе своих соучеников, может быть, меня следовало оставить на второй год. Занимался я не больше и не меньше, чем прежде, и, однако, с каждым месяцем, с каждой неделей терял один-два балла, съезжал на одно-два места; медленно, но верно удачливый игрок превращался в игрока-неудачника. Значит, в этом мире нет ничего незыблемого, приобретенного раз и навсегда? Жестокое открытие. Все рушилось. К тому же мне стало казаться — вероятно, без всяких оснований, — что дома меня любят меньше, чем прежде. Но кому, как не вам, доктор, знать, что от созданного ими мифа люди страдают больше, чем от реальной действительности? И вот вам пример…»


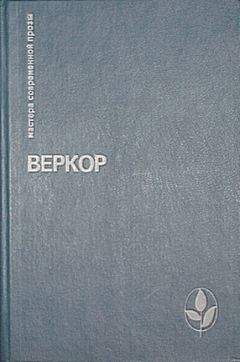
![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/uploads/posts/books/117740/117740.jpg)